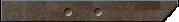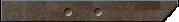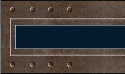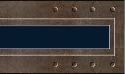|
Ирина Каспэ
Тайна Темной планеты, или Как уверовать в будущее: о «Туманности Андромеды» Ивана Ефремова
Ирина Михайловна Каспэ (р. 1973) − историк культуры, старший научный сотрудник Института гуманитарных историко-теоретических исследований им. А.В.Полетаева НИУ ВШЭ.(1)
Воображаемое будущее в последние десятилетия социализма, безусловно, являлось областью притяжения специфических псевдорелигиозных импульсов (не единственной, но, возможно, наиболее заметной): оно утверждалось как предмет веры («вера в коммунизм») и становилось адресатом молитв («Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко…»). Речь идет не о навязываемом официальными инстанциями языке, не о практиках политической манипуляции и контроля, а о вполне самостоятельном и бескорыстном поиске ресурсов, при помощи которых могли бы быть выражены предельные значения.
Принято считать, что в советской научной фантастике статус будущего резко и принципиально изменился в 1957 году, с выходом «Туманности Андромеды» Ивана Ефремова. Роман был воспринят исключительно в «оттепельном» контексте: как подтверждение открывающихся возможностей, новых (как казалось, безбрежных) горизонтов(2). На фоне жестких нормативных ограничений предшествующих двадцати лет, когда литераторам дозволялось воображать и изображать только «ближнее» будущее, «завтрашний день» (то есть площадку для реализации уже существующих замыслов, сугубо практических − экономических, производственных, научных, инженерных)(3), «Туманность» представлялась смелым мыслительным экспериментом, результатом неукротимого полета фантазии и спровоцировала не только бурные дискуссии, но и радикальное расширение аудитории читателей, испытывающих самый живой интерес к коммунистической футурологии.
«Громадный слой общества обнаружил Будущее»(4), − писал Борис Стругацкий, вспоминая о событиях 1956−1957 годов (ХХ съезд партии, запуск первого искусственного спутника и, не в последнюю очередь, публикация «Туманности Андромеды») и о том, что за ними последовало. Но при этом сама риторика говорения о будущем в некотором отношении почти не претерпевает трансформаций: отдаленное будущее, Будущее с большой буквы, как и будущее «ближнее», «завтрашнее» (обыденное), ценно прежде всего тем, что «зависит от нас»(5), то есть является полем приложения «наших» усилий.
Что стоит за этой риторикой и что, собственно, было обнаружено в середине 1950-х?
Конечно, реабилитация «дальнего» будущего означала реабилитацию утопии, находившейся с 1930-х годов под категорическим запретом(6). Безграничная фантазия Ефремова подчинялась строгим рамкам классической утопии − и этот факт признавался в советской критике абсолютно открыто(7). Было бы недостаточно констатировать, однако, что «Туманность» принадлежит к утопическому жанру. Прежде всего потому, что утопия − необычный литературный жанр, не вполне литературный, а возможно, и вовсе не жанр.
Луи Марен, совершивший около тридцати лет назад микрореволюцию в utopian studies, в свойственной ему эзотерической манере описывал утопию как своего рода гибрид пространства и нарратива, специфическое место, невозможное, вненаходимое с точки зрения географии и истории и в то же время определяющее себя при помощи географических и исторических координат(8). Говоря метафорически, утопия в культуре Нового времени, − запасная территория, резерв, необходимый при том способе конструирования социальной реальности, который не оставляет географических и исторических лакун. В то время, как карты и хронологические таблицы лишены «белых пятен» (а каждое новое открытие восстанавливает непрерывность и полноту мира прежде, чем успевает на них посягнуть), место утопии всегда свободно для наших проекций, всегда ожидает своих первооткрывателей.
С особенностями утопического письма связаны особенности утопического чтения. Питер Рупперт, исследуя рецепцию литературных утопий, замечает, что для нее характерна затемненная грань между «вымыслом» и «фактом»: читатели «легко забывают» (легко позволяют себе забыть), что перед ними фикциональный нарратив. Восприятие утопии, как показывает Рупперт, постоянно колеблется между двумя противоречащими друг другу режимами: с одной стороны, утопия воспринимается как иное место, полностью вынесенное за пределы того, что мы считаем социальной реальностью («благословенное место» и «несуществующее место» − Марен полагал, что через двойственную этимологию слова «утопия» воспроизводится идея о несуществовании абсолютного блага(9)); с другой стороны, утопию регулярно начинают расценивать с точки зрения ее реалистичности и реализуемости и даже рассматривать как готовый проект, программу действия(10).
В случае «Туманности Андромеды», в случае «дальнего» будущего, саму возможность которого как бы заново открывает для своих многочисленных читателей Ефремов, оба режима работают с повышенной интенсивностью.
Отдаленность здесь, конечно, подразумевала не только и не столько временнýю дистанцию, сколько дистанцию метафизическую: будущее, обнаруженное в середине 1950-х годов, позволяло воспринимать себя как иной мир, принципиально не соответствующий ни наличному повседневному опыту, ни нормативным образам «советской действительности» (автора «Туманности» неоднократно укоряли за то, что в его версии грядущего коммунизма начисто отсутствуют памятники Ленину и вообще любые следы привычной советской символики). Дистанция оказывалась непредставимо большой не только по сравнению с прагматичной и осторожной фантастикой «завтрашнего дня», но отчасти и по сравнению с наиболее яркими коммунистическими утопиями 1920-х − начала 1930-х. Их импульсивная эсхатология расшатывала конструкцию настоящего, побуждая поверить в то, что грандиозные изменения необратимы, реальность навсегда утратила устойчивость и нормальность и потому вполне вмещает в себя светлое будущее − оно рядом, «при дверях». Напротив, эра Великого Кольца, придуманная Ефремовым, располагается по ту сторону реальности, отделена от нее непроходимой границей − момент трансгрессии, перехода из обычного, «нормального» мира в коммунистический вообразить было несоизмеримо сложнее, чем само коммунистическое общество. Разумеется, Ефремов, как многие другие советские фантасты до и после него, пытается подробно и рационально описать («научно обосновать») этот переход, однако судя по тому, с какой частотой и растерянностью обсуждалась в позднесоветской культуре тайна превращения «нашего современника» в «человека будущего», подобные обоснования оказывались не слишком убедительными.
Итак, во-первых, под будущим понималась запредельная, потусторонняя территория, во-вторых, казалось очевидным, что это будущее реализуемо, − более того, по формулировке Бориса Стругацкого, реализация «зависит от нас». «Ради такого будущего стоит жить и работать»(11), − так авиаконструктор Олег Антонов описывал свои читательские впечатления от «Туманности Андромеды». Сверхценная идея активного строительства будущего, на всем протяжении советской истории не исчезавшая из пропагандистского языка, в середине 1950-х приобретает особый, дополнительный смысл − для резко расширившейся аудитории научной фантастики запредельность будущего означала, как ни странно, надежду на его присвоение, на выстраивание личных, частных отношений с ним. Коммунистическое будущее, оставаясь, конечно, вотчиной государственной идеологии, строго подконтрольным, «общим», коллективным пространством, которое может оцениваться по критериям достоверности и узнаваемости (так, литературные критики регулярно ставили фантастам в вину недостаточно правильное описание будущего), все же освобождалось от тотального диктата государственного планирования, от жесткой привязки к планам развития народного хозяйства и тем самым оставляло существенно больше места для персонального целеполагания и персональной включенности.
Понятно, что эта включенность оказывалась гораздо сильнее и глубже, чем обычно предполагает утопическая рецепция. Намерение жить ради светлого коммунистического будущего полностью подчиняло себе − хотя бы на декларативном уровне − актуальный повседневный опыт, придавая ему смысловые основания. Собственно, такое представление об иной реальности − трансцендентной по отношению к повседневному опыту и одновременно наполняющей этот опыт значением − Питер Бергер считает религией(12). Говоря о религиозности на языке социального конструктивизма, Бергер определяет ее как веру в «иную реальность», предельно отделенную от человека и при этом обращенную непосредственно к нему, ему адресующуюся; существование человека внеположно этой высшей реальности и вместе с тем полностью в нее включено; эта реальность, «сакральный космос», противостоит профанному социальному порядку, но одновременно воплощает порядок, защищающий социальную конструкцию «обычной жизни» от распада и хаоса(13).
Представляется небезынтересным перечитать «Туманность Андромеды» в этом контексте. Бергер пишет:
«Каждое общество, в конечном счете, это люди, связанные вместе перед лицом смерти. […] Власть религии, в конце концов, зависит от того, насколько убедительны знамена, которые она вкладывает в руки людей, стоящих перед лицом смерти, или, вернее, неотвратимо идущих по направлению к смерти»(14).
Что произойдет, если такая власть будет хотя бы отчасти передана утопии, если на знаменах стоящего перед лицом смерти общества будет написано «общество»? Насколько убедительной окажется подобная тавтология? Меня не смущает банальность этих вопросов − напротив, мне кажется, что именно в силу своей очевидности они слишком редко ставились в качестве исследовательских задач, слишком редко провоцировали анализ конкретного материала.
Таким материалом, безусловно, является роман Ефремова − утопия, которая встраивалась читателями в практику почти религиозной «веры в будущее». Рассматривая «Туманность» с этой точки зрения, я, однако, не задаюсь целью реконструировать историю рецепции романа. Моя цель в каком-то смысле противоположна − дальше я постараюсь немного разобрать его нарративное устройство и, возможно, указать на области, которые вытеснялись из актуального опыта чтения, не замечались, не рефлексировались, но, оставаясь частью нарративной ситуации, конечно, влияли на общее впечатление от текста.
* * *
Как показал Фредерик Джеймисон, вероятно, наиболее авторитетный из сегодняшних исследователей утопии, утопический нарратив − сам по себе неосуществимая утопия Нового времени. Невозможно создать повествование об универсальном и тотальном счастье, невозможно вообразить идеальное и абсолютное − неизбежны разрывы и сбои, в которых дает о себе знать то, что Джеймисон называет «вытесненной негативностью»(15).
Отзываясь о «Туманности Андромеды» с несколько снисходительной завороженностью («оригинальная культура Второго мира, чьи артефакты… производят на западного читателя… неартикулированное и беспокоящее впечатление простоты, неотличимой от наивного сентиментализма»)(16), Джеймисон не видит особых затруднений в интерпретации этого романа:
«Роман Ефремова предсказуемо организуется вокруг наиболее очевидной дилеммы, которую негативное ставит перед утопическим видением, а именно: вокруг неустранимого факта смерти. В равной мере характерно и то, что тревога по поводу индивидуальной смерти в романе принимает форму коллективной судьбы: в потере [в оригинале − the loss, что по контексту может быть переведено и как «гибель», «крушение». − И.К.] космического корабля “Парус” с легкостью опознается риторическая фигура коллективного жертвоприношения на алтарь человечества»(17).
По мнению Джеймисона, очевидная неустранимость смерти лишь маскирует другие, более травматичные и потому более скрытые формы негативности − те, которые имеют отношение к конструкции утопического общества. Два самых заметных в романе сюжета − депрессия Дар Ветра и муки совести Мвена Маса − свидетельствуют, согласно Джеймисону, о кризисе психиатрической и пенитенциарной систем соответственно, тем самым очерчивая пределы советского утопического воображения.
«Не случайно также и то, что эти нарративные симптомы принимают пространственную, географическую форму. Уже у Томаса Мора возможность вообразить Утопию принципиально соотносится с установлением некоторой пространственной отграниченности (с выкапыванием огромного рва, превращающего “Утопию” в изолированный остров). Удаленная океанографическая станция [на которой излечивается от депрессии Дар Ветер. − И.К.] и остров-тюрьма [на который отправляется в добровольное изгнание Мвен Мас. − И.К.] маркируют, таким образом, возвращение приемов пространственного отделения и замыкания, формально необходимых для конструирования некоторого “чистого” и позитивного утопического пространства, они выдают постоянную тенденцию обнажения базового противоречия в производстве утопических образов и нарративов»(18).
Мне хотелось бы использовать эту развернутую цитату, чтобы чуть сместить фокус рассмотрения утопии с разговора о (заведомо обреченном) проекте идеального общества к анализу организации утопического пространства.
Действительно, негативное и проблемное в «Туманности Андромеды» как бы превентивным образом объективируется, получает пространственное выражение, обретает целый ряд специальных резерваций − в паре с островом Забвения, остроумно названным Джеймисоном «островом-тюрьмой» или «идиллическим цейлонским ГУЛАГом», уместно упомянуть и остров Матерей − тоже своего рода территорию девиации, последнее прибежище института родительства, по сути упраздненного на «большой земле» (эта тема, пожалуй, с наибольшей горячностью и личной заинтересованностью обсуждалась первыми читателями романа(19)). Однако, помимо островов − кривых зеркал моровской Утопии, тупиков общественного развития, гетто для отвергнутых коммунистическими потомками типов социальной жизни, − в мире светлого будущего присутствует еще одно место негативности, оно вынесено за пределы Земли, и в нем нет абсолютно ничего социального, ничего человеческого. Строго говоря, − вообще ничего, кроме зла.
Таким пространством является Темная планета, обращающаяся вокруг железной звезды, − «планета-ловушка», «планета погибших звездолетов», чья высокая гравитация притягивает к себе корабли, в том числе и «Парус». Он остается цел, но его экипаж гибнет, сохранившаяся магнитофонная запись полетного дневника завершается тревожными обрывками речи:
«Механик Сах Ктон пополз к двигателям… ударим планетарными… они, кроме ярости и ужаса, − ничто! Да, ничто…»(20)
Этот напряженный сюжетный поворот обычно расценивается исследователями как способ создания приключенческой интриги, как экшн, контрастирующий с общей строгостью утопического повествования(21), но риторические средства, которые используются здесь для поддержания саспенса, на редкость однозначны и однотипны: «в плену тьмы» (название соответствующей главы), «в темной бездне», «там, в воротах мрака, в клубах тумана», «могильная тьма окружавшего мрака» и, наконец, «темная сила».
Некие силы все-таки действуют в этом царстве тьмы; Ефремов с удивительной изобретательностью создает нечто из ничего (практически реализовав мечту Хичкока о невидимом гипнотическом ужасе) − образ на грани несуществования. Обитатели Темной планеты, погубившие экипаж «Паруса» и чуть не погубившие экипаж «Тантры» (другого земного корабля, который спустя несколько десятилетий попадает в ту же ловушку), представляют собой сгустки энергии, не занимающиеся ничем, кроме уничтожения. Естественно, они боятся света, мгновенно прячутся от включенных прожекторов и оказываются за пределами восприятия, не настроенного на инфракрасную часть спектра и инфразвуковые волны. Самые примитивные из них имеют форму медуз − форму ускользающего от взгляда, почти бесплотного хищника. Более опасный противник выглядит как «черный крест с широкими лопастями и выпуклым эллипсом посередине» − земные астролетчики находят такое существо «неизъяснимым для человеческого воображения» и оттого особенно «устрашающим».
Черный крест упоминается в романе еще раз, в совсем другом контексте и в другом эпизоде: Дар Ветер, один из главных героев, не без смутного трепета вспоминает картину, изображающую тоскливое прошлое его русских предков, − в описании унылого и одновременно притягательного пейзажа «древнего мастера» опознается «Над вечным покоем» Исаака Левитана. Внимание Дар Ветра в числе прочего привлекают покосившиеся кресты на маленьком кладбище и тонкий крест на куполе старой церкви, «чернеющий под рядами низких тяжелых туч». Имеет смысл, на мой взгляд, не вдаваясь в досужие домыслы, зафиксировать этот топос смерти, но прототип черного креста с Темной планеты искать все же в ином месте: его широкие лопасти больше напоминают немецкие Железные кресты − вероятно, один из самых узнаваемых для автора и первых читателей «Туманности» символов абсолютного зла и абсолютного врага. Собственно говоря, черный крест «неизъясним», непредставим в качестве инопланетного диковинного животного постольку, поскольку «для человеческого воображения» он не что иное, как символ.
Вся эта риторика и специфическая образность создают двойственный эффект: при наличии «научного», «материалистического», объяснения происходящего нас все время приглашают заглянуть туда, где материя переходит в иное качество, где обитатели Темной планеты и правда оказываются не телами, асилами, воздействующими на человека изнутри, − подчиняя его собственной воле, гипнотизируя и парализуя:
«Что-то прошло сквозь его сознание, вызвало сокрушающую тоску в сердце, заставило подогнуть колени. […] Он остановился, но темная сила, возникшая в его психике, снова погнала его вперед».
Легко вообразить, будто таинственные инфрахищники в самом деле «ничто», кроме ужаса − ничто, кроме тех эмоций и реакций, которые они вызывают у людей.
Ближе к концу романа мы узнаем, что астронавигатор «Тантры» Низа Крит, парализованная «страшным крестом» и успешно исцеленная земными медиками, продолжает постоянно испытывать «странное ощущение»:
«После железной звезды меня не покидает странное ощущение. Где-то в душе есть тревожная пустота. Она существует вместе с уверенной радостью и силой, не исключая их, но и не угасая сама».
Эту темную историю с определенными формальными оговорками можно назвать рамкой, в которую вписывается повествование о светлом будущем. Первая глава «Туманности», целиком посвященная «Тантре», обрывается в тот напряженный момент, когда корабль сбивается с курса, поддавшись притяжению железной звезды, и неумолимо приближается к зловещей планете. В финале последней главы Низа Крит вместе с командиром «Тантры» Эргом Ноором отправляется в новый космический полет, на сей раз без надежды вернуться, унося в своей душе тревожную пустоту.
Нарративная функция такой рамки вполне понятна. В отзывах на «Туманность» не раз отмечалось, что в романе отсутствует традиционная фигура посредника между «реальным» и «утопическим» миром, в данном случае − читательского современника, перенесенного в будущее каким-нибудь фантастическим способом. Действительно, подобная фигура не только технический прием, позволяющий автору справиться с мотивацией и адресацией утопического повествования (как отмечали советские критики, «странными кажутся читателю попытки героев “Туманности Андромеды” объяснять друг другу устройство, законы и обычаи собственного общества»(22)), но также нарративный инструмент производства критической дистанции, «остранения» (причем обоих миров − и «реального», и «утопического»)(23). Однако Ефремов не просто отказывается от такого инструмента, но заменяет его на прямо противоположный: вместо «своего» и понятного посредника, вводит в повествование рамочные фигуры абсолютной чуждости, непроясненной тьмы. Соответственно, утопический мир на этом фоне, напротив, приближается к читателям, появляются ресурсы для его присвоения, восприятия в качестве нестрашного, комфортного, рационального, человечного. (До определенных пределов, разумеется, − читательские отклики разных времен однозначно свидетельствуют, что мир эры Великого Кольца представляется скорее «холодным» и «схематичным», особенно когда сравнивается с «обжитым» и «теплым» Миром Полудня Стругацких.)
Вместе с тем речь идет не только о нарративной рамке: малообъяснимая усталость, «депрессия» Дар Ветра, привлекшая внимание Джеймисона как удачный пример вытесненной негативности, конечно, соприродна той «тревожной пустоте», вирусом которой была инфицирована на Темной планете астронавигатор Низа. Не последовав за Джеймисоном в его намерении видеть в этой депрессии указание на теневую (репрессивную) сторону идеально устроенного общества, я попробую выстроить свое рассуждение на том уровне, который представляется Джеймисону поверхностным и очевидным (в определенном смысле так и есть), − на уровне «предельной» проблематики, «вопросов жизни и смерти». Происхождение «темных сил», не только окружающих общество светлого будущего, но и диверсионным образом проникающих в него изнутри, в данном случае плохо поддается описанию через анализ собственно общественного устройства: «Туманность Андромеды», конечно, замышлялась не просто как воображаемая модель социальности, но − более амбициозно − как новая космогония.
Человеческое общество и сам человек выглядят внутри этого грандиозного макета Вселенной как хрупкие, почти случайные образования. Материя, жизнь, разум возникают из небытия и хаоса; Ефремов описывает подобные процессы явно не без влияния Ильи Пригожина:
«Любой живой организм − это фильтр и плотина энергии, противодействующая второму закону термодинамики или энтропии путем создания структуры, путем великого усложнения простых минеральных и газовых молекул».
Повествование здесь организовано вокруг четко обозначенных пространственно-временных полюсов: верх−низ, прошлое−будущее, микро−макро. Все это производит впечатление тщательно прочерченной сетки координат, хорошо составленной карты (именно поэтому читателю оказывается достаточно просто ориентироваться без провожатых-посредников). Вектор движения по этой карте, вектор целеполагания, вектор смысла прорисован не менее отчетливо: его символически воплощает памятник «первым людям, вышедшим на просторы космоса»:
«Склон крутейшей горы в облаках и вихрях заканчивался звездолетом старинного типа − рыбообразной ракетой, нацелившей заостренный нос в еще недоступную высоту. Цепочка людей, поддерживая друг друга, с неимоверными усилиями карабкалась вверх, спирально обвивая подножие памятника, − летчики ракетных кораблей, физики, астрономы, биологи, смелые писатели-фантасты».
Иными словами, фантастический ефремовский роман и сам вписывается в это трудное восходящее движение, с очевидностью противопоставляющее законам энтропии законы иерархии и истории. Вообще разбросанные по всему тексту манифестации собираются в непротиворечивую и узнаваемую идеологию преодоления − идеологию беспредельных возможностей самодостаточного человеческого разума, постоянно превозмогающего даже собственные пределы.
Вторая часть
(1) В данной статье использованы результаты проекта «Конструирование прошлого и формы исторической культуры в современных городских пространствах», выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2014 году.
(2) См., например: «Роман Ивана Ефремова ответил духу времени. Он стал поворотной вехой в истории советской научно-фантастической литературы. Годом его выхода в свет датируется начало самого плодотворного периода в нашей фантастике» (Бритиков А. Русский советский научно-фантастический роман. Л.: Наука, 1970 (здесь и далее цит. по электронной версии:https://lib.rus.ec/b/71949)).
(3) Пожалуй, самый полный свод такого рода правил был изложен в: Иванов С.Фантастика и действительность // Октябрь. 1950. № 1. С. 155−164.
(4) Цит. по: Стругацкий А., Стругацкий Б. Улитка на склоне. Опыт академического издания. М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 524.
(6) См. об этом: Богданов К. О чудесах и фантастике // Он же. Vox populi: фольклорные жанры советской культуры. М.: Новое литературное обозрение, 2009. С. 101.
(7) См., например: «Роман Ефремова − один из самых научно убедительных в мировой утопической традиции» (Бритиков А. Указ. соч.); «Этот роман, во многом новаторский, в то же время представляет собой продолжение и развитие в новых общественно-исторических условиях традиционной линии социально-утопической фантастики» (Черная Н. В мире мечты и предвидения: научная фантастика, ее проблемы и художественные возможности. Киев: Наукова думка, 1972 (здесь и далее цит. по электронной версии:www.fandom.ru/about_fan/chernaya_0.htm).
(8) Marin L. Utopiques: jeux d'espaces. Paris: Éditions de Minuit, 1973; здесь и далее цит. по: Idem. Utopics: The Semiological Play of Textual Spaces. New York: Humanity Books, 1990. P. 47−48.
(10) Ruppert P. Reader in a Strange Land. Athens: University of Georgia Press, 1986. P. 12−13. Анализ рецепции утопий см. также в: Roemer K.М. Utopian Audiences: How Readers Locate Nowhere. Amherst: University of Massachusetts Press. 2003 − однако здесь понятие «утопия» понимается, пожалуй, чересчур расширительно.
(11) Цит. по: Бритиков А. Указ. соч.
(12) Berger P.L. A Rumor of Angels: Modern Society and the Rediscovery of the Supernatural. New York: Doubleday, 1969. P. 2; Idem. The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion [1967]. New York: Anchor Books, 1990. P. 25−26.
(13) Idem. The Sacred Canopy. P. 26−27.
(15) См. прежде всего: Jameson F. Archeologies of the Future: The Desire Called Utopia and Other Science Fictions. London: Verso, 2005.
(16) Idem. Progress versus Utopia, or Can We Imagine the Future? // Idem.Archeologies of the Future… P. 291; см. рус. перев.: Джеймисон Ф. Прогрессversus утопия, или Можем ли мы вообразить будущее? // Фантастическое кино. Эпизод первый. М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 45.
(19) Например: «Никто не может оспорить важности и необходимости коллективного, общественного воспитания для будущего члена общества. И все же представляется, что писатель слишком категорично и просто решил эту проблему, обеднив тем самым мир будущего, чувства и переживания своих героев. Ефремов фактически низводит роль матери до роли кормилицы» (Черная Н. Указ. соч.; здесь же приводятся высказывания других критиков, предъявлявших роману Ефремова «аналогичные упреки»).
(20) Ефремов И. Туманность Андромеды. М.: Молодая гвардия, 1958 (здесь и далее цит. по электронной версии: http://lib.rus.ec/b/158394).
(21) Suvin D.R. Metamorphoses of Science Fiction. New Haven; London: Yale University Press, 1979. P. 285.
(22) Черная Н. Указ. соч.
(23) Об этом см., например: Roemer K.М. Op. cit. P. 26−27.
(24) Подробнее об этом: Каспэ И. Куда делось будущее: утопическое зрение, утопическое чтение и восприятие литературы Стругацких // Пути России. Будущее как культура: прогнозы, репрезентации, сценарии. М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 339−361.
(25) Такого рода дисциплина желания, конечно, весьма характерная для советской фантастики, в значительной степени воспитывалась и подпитывалась специфической идеологемой реалистичной мечты, опиравшейся на ленинские рассуждения о «праве мечтать» и окончательно оформившейся к началу 1950-х. Об этой идеологеме см.: Богданов К. Указ. соч. С. 101.
(26) См.: Jameson F. Archaeologies of the Future… P. 39, 61, 403−404.
(27) О геометрии утопического пространства и, в частности, семантике круга: Marin L. Op. cit.
(28) Благодарю Ксению Зорину, подсказавшую мне этот контекст в частном разговоре о «Туманности Андромеды».
(29) Цит. по: Мор Т. Утопия. М.: Издательство Академии наук СССР, 1953. С. 50.
(30) Marin L. Op. cit. P. 47−48.
(31) Попилов Л. 2500 год. Всемирная выставка. Очерк («Репортаж из будущего») // Техника − молодежи. 1956. № 7. С. 26, 29.
Источник: http://magazines.russ.ru/nz/2015/99/14k-pr.html |