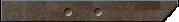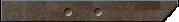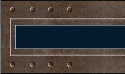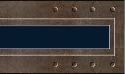Из воспоминаний
Как же случилось, что я, вчерашний доходяга, слабосильный интеллигент, все-таки
выпрямился? И без теплого места, без спасительных посылок и всемогущих денег.
В бараке мое место оказалось рядом с человеком не из нашей бригады.
Небольшого роста, худощавый, с простым скромным лицом, со светлыми глазами
и доброй улыбкой, лет тридцати пяти. Иван Иванович Бусыгин. История его
хоть и отличалась от большинства, но, в общем, была довольно типична:
плен, немецкая разведшкола, выброс на нашей территории, явка с повинной
– и пятнадцать лет, с обычной добавкой поражения в правах. Он ленинградец,
кажется, был мастером по наладке станков на ткацком производстве.
Он оказался живым, любознательным, с неподдельным интересом о многом
расспрашивал, посетовал, что всю жизнь мечтал учиться, а вот не пришлось
– окончил семилетку. Узнав,что я филолог, обрадовался: не помогу ли я
ему с русским языком, а то он всё позабыл – не уверен иной раз, как слово
писать. Мы с ним и стали понемногу заниматься. Мне тоже полезно вспомнить
– кто знает, что в жизни пригодится…
Потом мы перешли к теории литературы – ему хотелось, видно, постичь
секреты словесного ремесла. Может, и самому хотелось что-нибудь написать?…
Кого не посещала тяга к сочинительству… Но расспрашивать об этом посчитал
неудобным – что я скажу: давай, налегай, пробуй… На это права не имел.
А объяснять, сколь этот путь труден и опасен и как в нем можно безрассудно
увязнуть?… Так если у него есть такая мечта, зачем же бить по голове:
коли наука впрок пойдет, сам разберется.
Иван Иванович работал поваром в лагерной столовой.
— Слушай, чего ты никогда не подойдешь ко мне? Не стесняйся,
я ведь многих подкармливаю.
В иных повествованиях повар показан как главарь банды придурков,безжалостно
обворовывающий зеков. Не знаю, может, и встречались такие повара, но мой
Иван Иванович на них не походил абсолютно. На кухне, конечно, он был сыт,
но жил весьма скромно. Никогда он не роскошествовал, спирт не пил, не чифирил.
Помогал людям – это да. Нет кухни такой, чтобы нельзя было сэкономить десяток-другой
мисок с кашей. Но продукты он не разворовывал, это уж я точно знаю. /…/
Помощь Ивана Ивановича положила начало моей сытости. /…/
Пытаясь заниматься с Иваном Ивановичем теорией литературы, я обнаружил,что
ничего из того,чему меня учили, вспомнить не могу: какие-то абстрактные
формулировки, смысла которых я и тогда не мог понять.Тогда я решил просто
рассуждать обо всех этих вещах, как говорится, своим умом. Тут мне один
знакомый – рентгентехник (лагерь каким-то образом заимел рентгенаппарат,среди
зеков нашелся, конечно, и специалист, и теперь он разъезжал с аппаратом
по лагпунктам и проверял всех зеков на рентгене – главной тревогой был
силикоз) переслал с Центрального сборник «Вопросы теории литературы»,
вышедший в 1950 году под редакцией Л.И.Тимофеева. Прочитав его, я убедился,
что вся наша теория литературы,которую мы изучаем в школе и в институте,
это по сути голые абстракции,вообще никакого смысла не имеющие,потому
их и понять нельзя. Так родилась у меня идея создать свою собственную
теорию литературы.
Во время работы я размышлял, тут же набрасывал свои мысли на клочке
бумаги, а вечером делился ими с Иваном Ивановичем. А ночью,когда все уже
спали, записывал их в тетрадь. Если бы я работал в конторе, то вряд ли
моя голова, забитая цифрами, была пригодна к раздумью…
Мы толком не знали,что добывается на руднике,да и не особенно интересовались.
Касситерит, правда, видели,но на-гора выдавались еще и пески, их ссыпали
в двойные плотные бумажные мешки, которые в свою очередь помещали в двойные
толстые матерчатые темно-синего или черного цвета. Запакованный таким
образом груз пломбировался и на машинах доставлялся в Магадан, а оттуда
самолетами на Большую землю. Так что судите сами, какой важности были
эти пески. Потом, уже в Усть-Омчуге, мы слышали про урановые руды, про
металл № 5. Недалеко от входа в рудник было небольшое помещеньице, так
называемая бирочная. В ней Абрам Петрович Беккер писал бирки. Абрам Петрович
– старый колымский волк,сидел уже не один срок, с 34-го года. Не раз я
у него обогревался.В бирочной было навалом этих бумажных мешков,и из них
Ребе сшил мне толстую тетрадь страниц на двести.
/…/ Время сгущало свои железные тучи и не предвещало ничего хорошего
для нас – никакого ясного неба. И потому я мог только мечтать – мне бы
забраться в какой-нибудь тихий уголок, в какую-нибудь маленькую комнатенку,где
будет тепло и светло,будет шуметь чайник с кипятком, где я в одиночестве
смогу прилечь на мякую подушку, раскрыть какую-нибудь книжку, что-нибудь
полегче, вроде детектива или сентиментального романа о любви…
Господи! Да много ли человеку надо…Лишь бы не шагать под конвоем, не
идти на мороз, не взваливать на себя тяжесть, от которой будут рваться
жилы… Большего счастья и не надо…
И когда я действительно всё это заимел, и начинала меня мучить тоска,
что я живу не той жизнью, я нарочно выходил на улицу, в злую пургу, и
упрямо шагал несколько часов под колючим снегом. После этого я возвращался
в жарко натопленную комнатку и, стряхивая с себя остатки пурги, говорил:
— Будь доволен, дорогой…
/…/ Дела на освобождение заранее приходили. Наказываю я Матвею:
— Узнай через Федю Хаврука. Если дело придет, сразу мне
сообщи.
Бригада Толика Бондаренко через ворота рудника вваливается. Толик идет ко
мне, сияет, широко улыбается. От всех чувств руку трясет лапищей своей медвежьей.
— Поздравляю! Матвей передал, пришло твое дело. Недолго
осталось. Жди. И день называет – тот, в который распадется моя цепь бригадная: 13-е
августа, понедельник.
Тут на меня заботы и навалились. Во-первых, в чем выйти из лагеря? /…/
Другая забота – моя тетрадь, которая стала для меня серьезным делом.
Как ее из лагеря вынести? Отберут ведь. Из лагеря тоже многое чего нельзя
было выносить: одежду, какая не значилась, имущество казенного вида, да
могли и письма отобрать. Все мы, кажется, при освобождении о нераспространении
подписывали. Ну, а тетрадь-то с записями чернилами – вообще штука запретная.
Если тайком будешь выносить, то в лучшем случае отберут – и гуляй. А ею
печку растопят. А то и задержать тебя могут: что там у тебя, дескать,
в тетради? Не новое ли преступление?…
Отдать тетрадь на предварительную проверку? Так ведь ее год проверять
будут. Неизвестно, куда ушлют тебя, ищи потом свищи…
Не знаю, чем бы всё обернулось, если бы опером в лагере попрежнему был
Чурин. Но его давно заменил молоденький литовец Мотусас. Он, должно быть,
после окончания спецшколы первый год служил. Мальчик свежий, румяный,
со всеми вежливый…
Я еще загодя решил – надо мне на него заход сделать. Он любил посидеть
в кабинке, где жили художники, Иван Иванович, и меня там встречал. Заприметил
я, что он в кабинку двинулся, и туда со своей тетрадочкой. Сидим все,
беседуем, и я ему:
- Гражданин начальник,я вот здесь работу пишу. По теории литературы.
Вот посмотрите.
Взял он ее в руки, повертел…
- Хотите, возьмите, прочтите.
- Да нет, зачем же. Хорошо, пишите. А вы знаете про Ажаева?
В эти годы гремел его роман, и имя его донеслось и до нас.
- Да, слышал. Он «Далеко от Москвы» написал.
— Вот, вот. А он его тоже в лагере написал. А теперь лауреат! Так
что пишите. Может, тоже что хорошее получится.
Я уже мог не бояться, что кто-то на меня стукнет. Обязательно доброхот такой
нашелся бы.
Видно, потому и не трогали меня с тетрадью.
Но как же тетрадь все-таки вынести?
/…/ Вот эта заслуженная тетрадь передо мной. Из толстой оберточной бумаги,
помятая, с потертым черным переплетом, с кое-где оторванными сшивками,
убористо заполненная фиолетовыми и синими чернилами… Всего в тетради пронумерованных
178 страниц, последняя запись – на 166-й. А рядом более поздняя запись
красным карандашом:
«Эта тетрадь из бумажных мешков сделана на «Коцугане», переплетал
Ребе М.Я. там же. Начата в 1950 г. зимой – до августа 51 г.»
На первом листе заглавие работы: «Принципы построения научной теории
литературы».
В работе много цитат, прозаических (из случайных источников), стихотворных,
в основном, по памяти, много ссылок, имен – в общем, многое из того, что,
несмотря на мою беглую учебу, всё же отложилось в голове и, оказывается,
еще не выветрилось. Слог, конечно, торопливый, я бы сказал, неряшливый.
Да и какой слог мог быть в тех условиях… Много наивных, сырых формулировок,
условной терминологии; нет, конечно, научной фундаментальности, но в то
же время постоянные попытки прорваться сквозь шаблоны наукообразия, которым
нас учили.
Словом, сырье, совсем бледное сырье.
Но тем не менее я и поныне отношусь к этой работе всерьез.В ней совершенно
новые подходы, в ней предвосхищены многие открытия эстетической мысли,
которые в изобилии стали появляться с середины пятидесятых годов.
Например, явилась книга А.Бурова «Об эстетической сущности искусства»,
в которой, в противовес Белинскому, утверждалось, что наука и искусство
отличаются не способом мышления (образное и логическое), а имеют разные
способы,потому что имеют разные предметы. И это было живо воспринято,
как новое замечательное слово эстетики, и вскоре стало общим местом.
Когда я, вернувшись, заговорил с приятелем, известным крититиком, о
моей тетради, он захотел ее показать ученому-специалисту.
- Да зачем? Та работа уже устарела. Я сам прекрасно понимаю, что она
слабая, ученическая работа.
- Нет, нет. А вдруг он найдет в ней что-нибудь ценное…
- Но только объясни, когда она писалась и в каких условиях…
Молодой ученый-эстетик – либерал, конечно, - ответил мне не письмом,
а отзывом, в котором я, автор рукописи, фигурировал в третьем лице (ну
зачем же упускать случай подработать! Оказывавается, мою бедную тетрадь
оформили как рукопись для Литературной консультации).
А.А. Лебедев, выдав мне комплименты
(«…несомненный литературный вкус автора, способность глубокого и достаточно
тонкого, иногда даже изящного подхода к явлениям искусства…»),
- затем, как истый мэтр, сохранял эпическую объективность олимпийца:
«Он /т.е. автор/ ощутимо отстал…Даже наиболее интересные его теоретические
положения (скажем, относительно того, что специфика литературы, как
вида искусства, определяется спецификой ее предмета) в работах некоторых
современных исследователей представлены более аргументированно и теоретически
обоснованно (см., напр., книгу А.И. Бурова «Об эстетической сущности
искусства»)».
Я-то наивно полагал, что он примчится:
- Покажите мне его! Недоучившегося студента, выброшенного из жизни,который
где-то на заброшенных сопках самостоятельно сформулировал за пять лет
до появления книг новых эстетиков вывод, который стал главной эстетической
сенсацией послекультовой эпохи…
Но он побежал в кассу.
Много и других своих мыслей узнавал я в кишевших страстями дискуссиях
того времени…
И еще об одной идее скажу. Художественность произведения зависит не
от образов, а от его структуры. Мой структурный
анализ отличался и от формальной школы ОПОЯЗа,и от того стуктурализма,
который с 60-х годов стал широким «достоянием доцентов»…
Вроде я мечтал только о тихой пристани, но всё же… Ведь покупаем мы
лотерейный билет с безумной надеждой – а вдруг отвалится машина. Были
и у меня планы в отношении моей работы. Пошлю ее в высокие инстанции –
может, это мне позволит перебраться из захолустья в крупный центр,где
я смогу хоть на досуге заниматься своим делом.
Зацепившись в Усть-Омчуге и устроившись в проклятой бухгалтерии (Боря
Слуцкий писал: он не представляет,что можно совмещать занятие бухгалтерией
и стихами), я понял, что мне совмещать эти два дела не удастся – голова
настолько опухала от цифр, что в ней уже никакой отвлеченной мысли не
шевельнуться.
За пять вечеров с широким захватом и ночей под чифиром я переписал свою
тетрадь и, приложив небольшое жизнеописание, отправил заказным письмом
в ЦК ВКП(б). Ученый муж из института Мировой литературы,некий Бутусов,
в своем отзыве и в заметках на полях одарил меня целым букетом:
«откровенный формализм»,«этак рассуждает буржуазный либерал», «безбожно
путает и прикрывается марксистскими фразами»,«сознательно проводит идеи
субъектитивного идеализма», «не понимает этот «ман»», и, наконец необходимая
точка – «космополитизм».
Ну, и если учесть дату, когда писался этот отзыв, 13 июня 1952 года
– канун дела врачей, – то комментарии вряд ли нужны…
Москва
1989 г.
(«Л-1-105», с.295-309)
Источник: http://www.gorchakov.org/theory_vospominanija.html |